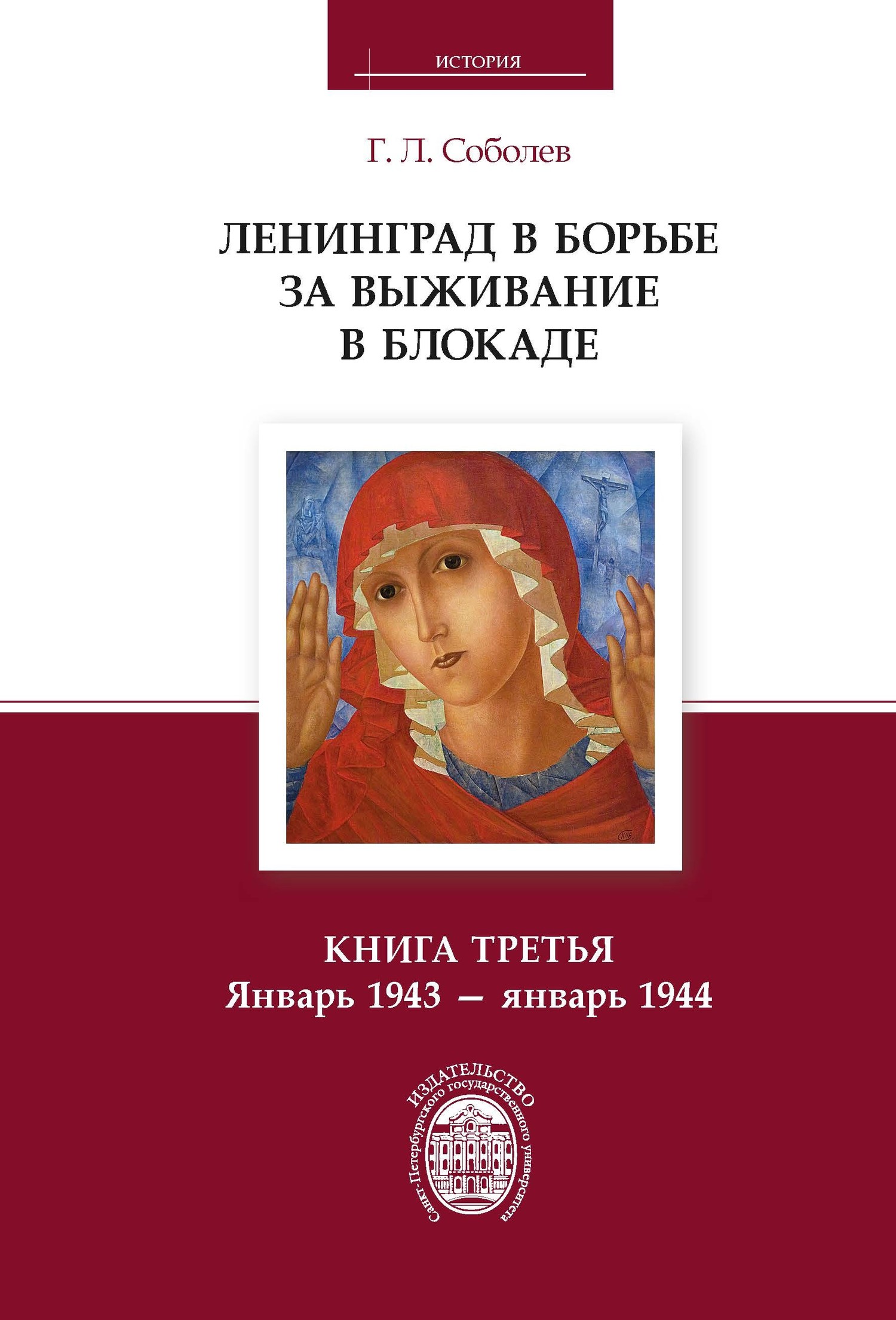Шрифт:
Закладка:
Я все время думал о Юстиниане, хотя нельзя сказать, чтобы Нина мне им все уши прожужжала, нет. Мне приходилось спрашивать, чтобы она рассказывала, и я спрашивал — хотя бы для того, чтобы посмотреть, как двигаются ее губы, — а она рассказывала с таким видом, будто просит прощения за свою невежливость. Что ей это нравится — она бы не призналась никогда в жизни: нельзя быть умнее собеседника, даже если собеседник лежит рядом голый и гладит твою сиську, — подобными вещами она была набита под завязку.
Пару раз я слышал, как ее друзья говорят со смешком она же у нас без пяти минут кандидат наук. И, хотя Нина была умнее своих друзей, всех, вместе взятых, и, вероятно, знала это — не могла не знать, — она протестующе поднимала руки и говорила, что думает бросить писать эту ерундистику (так она называла свою диссертацию). Не ерундой были клубы, наркотики, шмотки, отношения, вот это вот все — и иногда у меня складывалось ощущение, будто только я знаю: каждое утро после ночных разъездов по клубам и бесконечных разговоров о том, кто гей, а кто нет, Нина садится в свою «Тойоту» и катит в Публичку, чтобы несколько часов просидеть там с источниками — в основном с греческими и арабскими. И, однако же, если бы она услышала, как я все это говорю, она убила бы меня.
Нет, Нина не была Штирлицем в стране дураков, засланным казачком на безумном чаепитии, — она искренне была своей в своем кругу, хотя как раз в эту искренность поверить было сложнее всего. Нужно было, чтобы она кричала, выкидывая мои вещи на лестницу, найди себе в растянутом свитере с немытыми волосами, это то, что тебе нужно.
Думать о Юстиниане было способом не думать о ней, или, точнее, думать о ней другим способом — конечно, я понимал это и, наверное, с тем большим сладострастием думал. Мы попали в город с разных сторон (да и город-то сейчас был левее для меня и был бы правее для него) — меня встретил в аэропорту в Симферополе стесняющийся дядечка, посадил в машину и полтора часа вез до гостиницы, изо всех сил выдумывая светские темы для разговора, а его, даже если не связанного, то все равно под конвоем вели со стороны моря — но где-то на параллельных линиях (я сейчас ходил бы ему по голове) наши пути наверняка хоть раз да пересеклись. Где-то в одном из этих домов он жил — и рано или поздно вышел на улицу, причем его скривило от убожества этого городка, после Константинополя-то. Узкие, как коридоры, улицы, запах рыбы, тесные храмы, бедно одетые люди.
Он стал выходить по вечерам, в сумерках. Отворачивался от прохожих, прятал лицо. Выходил за стену к берегу и сидел, смотрел на море. Солнце, от которого он днем прятался по перистилю, садилось в море далеко за его городом, освещало там триклиний и террасы дворца, а здесь — правую половину его изуродованного лица, все окрашивая в прозрачный гранатовый цвет. Мало-помалу он стал привыкать смотреть на себя в зеркало и слышать звуки собственной речи. Наконец, он стал выходить и днем — тем более что уже все в городе знали, кто он, и сами опускали глаза. Те, кто пялился, встречали его взгляд и не выдерживали его — было страшно.
В этом городе он рождался заново, нащупывая внутри себя саму возможность быть дальше, и возможность такая была только одна — переродиться в новое существо. Оно-то и царапало его изнутри деревенеющими когтями, толкало новым изогнутым скелетом, цокало хитиновыми конечностями. И хотя все еще среди монет, которыми он расплачивался с проститутками, попадались деканумии с его изображением, сам он все меньше был похож на себя прежнего. Пропасть в десять лет, разверзшаяся между его изгнанием сюда и его побегом отсюда, хранит две непостижимые тайны: с одной стороны, почему это было так долго, а с другой — что дало ему силы так долго прождать.
Если только возможно перпендикулярно течению времени, лишь по смежности пространства, чувствовать эмпатию к человеку, который родился, жил и умер за полторы тысячи лет до настоящего времени, то я чувствовал такую эмпатию — хотя, конечно, не мог быть уверен ни в том, что Нина ничего не сочинила, рассказывая мне о нем, ни в том, что к ее словам, сказанным по большей части в полусне, не досочинил от себя ничего я сам. Я тоже чувствовал себя изгнанником, пусть у меня и был билет на самолет через два дня, из столицы на край ойкумены, хоть моя столица была столицей другой, северной империи, разве что — и хотя бы тут наши с ним позиции (если только, опять же, у времени бывает неевклидова геометрия) совпадали — обе наши империи исчезли с лица земли.
Дело не в формальном нарративном сходстве (нужно же сказать это вслух, чтобы исключить риск ошибочной диагностики: нет, я не отождествлял и не отождествляю себя с византийским императором Юстинианом II Безносым). Но я действительно думаю, что в пространстве есть, по всей видимости, дыры, и если в них и нельзя, как в кроличью нору, с уханьем, провалиться, то, по крайней мере, при некоторой доле везучести, можно приложиться к ним ухом и услышать стук колес совсем других поездов.
Конечно, в моем случае все было иначе — я и оказался-то на улице, не в последнюю очередь, потому что в кармане у меня лежали билеты в Крым и мне казалось, что Нина не устоит, не сможет отказаться от такого шанса — ни с того ни с сего, не в сезон махнуть в Севастополь. И что, как любая женщина, она найдет самый невинный, самый незначительный повод помириться — в худшем случае завтра, а в лучшем — прямо сейчас (я еще выкурил несколько сигарет под окнами). Ночь оказалась неожиданно холодная, идти нужно было от Таврического (sic) в Коломну (на такси у меня, как назло, не было), а пакет был очень неудобный, хоть и не тяжелый — много ли вещей накопится за два месяца совместной жизни? Я все не мог поверить, что она запросто легла спать и, выключив свет,
![Крым, я люблю тебя. 42 рассказа о Крыме [Сборник] - Андрей Георгиевич Битов](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)